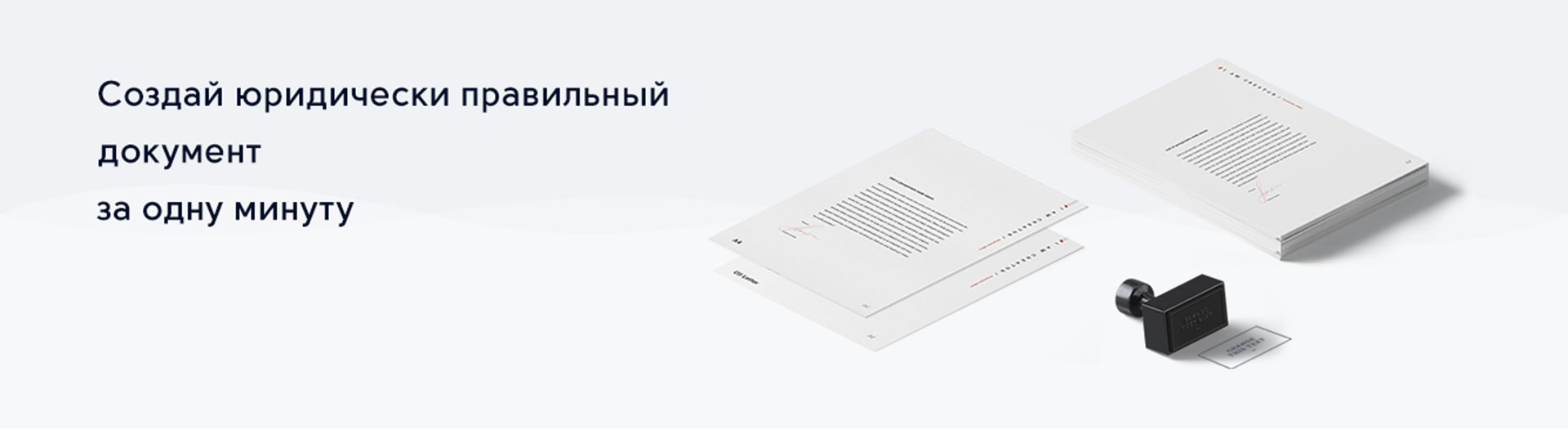Перспективы внедрения судебного прецедента в правовую систему Казахстана (М.К. Сулейменов)
Английское право часто называют прецедентным правом (case law). Это не совсем точно. Конечно, прецедентное право составляет подавляющую часть английского права. Создавалось поначалу английское право судами, которые при рассмотрении дел руководствовались местными обычаями. Со временем решения судов (прецеденты) становились обязательными при рассмотрении всех аналогичных дел нижестоящими судами. Однако наряду с общим прецедентным правом (common law) в Англии сложилось и действует прецедентное право справедливости (law of equity), формируемое судами лорда-канцлера, в которые обращались с прошением о восстановлении справедливости. Суд лорд-канцлера не был связан с прецедентами общего права. В 1873 г. был принят Закон о судоустройстве, который закреплял приоритет права справедливости по сравнению с общим правом.
Кроме того, в праве Англии существует т.н. статутное право. Формально законы (акта парламента) имеют приоритет перед судебными прецедентами. Однако фактически прецедентное право сохраняет свое доминирующее значение (к примеру, в сфере действия норм о договоре и обязательствах из причинения вреда)<sup>1</sup> .
Наряду с законами, важным источником является делегированное законодательство, подзаконные нормативные акты, принимаемые правительственными организациями. В то же время суд имеет право отменить норму делегированного права, если установит, что она была принята с превышением полномочий или же были допущены процедурные нарушения<sup>2</sup> .
В Англии нет разделения на гражданское и торговое право, как нет и разделения на частное и публичное право. Это чуждое нам право.
Как пишет Рене Давид, «Различие в структуре права, как мы это увидим, действительно полное. С точки зрения известных делений права мы не найдем в английском праве ни деления на право публичное и право частное, ни деления, столь естественного на наш взгляд, на право гражданское, на право торговое, право административное, право социального обеспечения. Вместо этого мы находим в английском праве деление в первую очередь на общее право и право справедливости.
На уровне понятий мы также будем частично дезориентированы, не найдя в английском праве таких понятий, как родительская власть, узуфрукт, юридическое лицо, подлог, непреодолимая сила и т.п. Зато нам встретятся такие незнакомые понятия, как доверительная собственность, встречное удовлетворение, эстоппель, треспасс и др., которые нам ни о чем не говорят. Не соответствуя ни одному из знакомых нам понятий, термины английского права непереводимы на другие языки, как термины фауны и флоры разных климатов. Когда любой ценой хотят перевести эти термины, их смысл, как правило, теряется. Трудность не уменьшается даже при кажущейся адекватности: «договор» английского права не более адекватен «договору» французского права, чем английское equity, право справедливости, французскому понятию «справедливость»; administrative law вовсе не означает административное право, а civil law – гражданское право»<sup>3</sup> .
Принципиальная несовместимость английского и континентального права вытекает еще из того, что континентальное право выросло из римского права, а английское право не могло воспринять римское право по ряду причин:
Во- первых, римское право имело преимущественно частный характер, которое не могло быть использовано королевскими (вестминстерскими) судами, решавшими в рамках своей юрисдикции не частные, а публично-правовые споры. Во-вторых, на пути рецепции римского права в Англии существовали препятствия в виде не совместимых с римским правом местных традиций и обычаев. В-третьих, это вытекало из особенностей эволюционного развития Англии и ее правовой системы, не вызывавших необходимости выхода за рамки общего права<sup>4</sup> .
Весьма своеобразный, даже уникальный характер английского права выражается в высоком уровне независимости судебной власти. Это вытекает из того, что общее право- это в первую очередь судебное право.
Суды формируют право, и это действительно настоящая власть<sup>5</sup> . ...
М. Сулейменов
Касатально отдельных вопросов реформы института адвокатуры
Джаболдинов Орынгазы Бекболатович Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Королевская палата арбитров (MCIArb)
Законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» является одним из самых обсуждаемых законопроектов в среде адвокатов и других юристов за последние годы. Юридическая профессия в Казахстане находится в преддверии нового этапа своего развития, началом которой будет принятие данного горячо обсуждаемого законопроекта, который призван увеличить количество адвокатов и как следствие улучшить качество юридической помощи, оказываемой адвокатами. Хотелось бы, чтобы законопроект внедрил передовые практики регулирования адвокатур развитых стран, а не только оторванные из контекста отдельно взятые практики. Ведь модернизация адвокатуры будет способствовать модернизации всей правовой системы страны. В досье к законопроекту приводятся следующие данные о количестве адвокатов у нас в Казахстане и в некоторых развитых странах: «В настоящее время лицензии на занятие адвокатской деятельностью имеют 12 589 гражданина Республики Казахстан. Фактически адвокатами (лицами, вступившими в коллегии адвокатов) являются только 4 683 лиц или 37 % от общего числа получивших лицензию , что составляет 1 адвокат на 3900 человек . В Германии 1 адвокат на 500 человек , во Франции 1 адвокат примерно на 1200 человек населения . Это число адвокатов недостаточно для охвата квалифицированной юридической помощью всего населения Казахстана ». Действительно, в развитых странах на одного адвоката приходится в несколько раз меньше человек, то есть в этих странах адвокатов объективно больше. При этом, как видно из вышеприведенного примера количество адвокатов может также существенно разнится даже между развитыми странами западной Европы. Причина такой разницы в количестве адвокатов в разных странах кроется в одной довольной прозаичной детали. Давайте разберёмся какая же это деталь... Возьмем для примера пару других развитых стран Европы - Италию и Нидерланды. В Нидерландах по состоянию на 2011 год было 16 275 адвокатов (“advokaten”) при населении около 16 млн человек на то время, что составляет 1 адвокат на примерно 900 человек . В Италии же при населении 60 млн жителей около 250 000 адвокатов (“avvocato”), что составляет 1 адвокат уже на примерно 250 человек . То есть выходит, что в Италии адвокатов в трое больше, чем в Нидерландах, это при том, что в плане экономического развития Нидерланды с ВВП на душу населения в $44 тыс. более успешная страна, чем Италия где ВВП на душу населения составляет около $30 тыс . Выходит, что уровень жизни или развитости также не имеют прямую причинно-следственную связь с количеством адвокатов в той или иной стране. Так, в чем же основная причина разного количества адвокатов в разных странах (то есть количества людей на 1 адвоката)? Все довольно просто и прозаично. В Нидерландах защитниками по уголовным делам и представителями по гражданским и любым иным делам в судах могут быть только адвокаты, то есть там, как и в любой другой развитой стране действует так называемая "адвокатская монополия" на представительство в суде. В Италии же действует полная адвокатская монополия, которая помимо представительства в суде, распространяется даже на юридические консультации. У нас же в стране пределы «адвокатской монополии» если ее можно так назвать, ограничиваются лишь защитой по уголовным и административным делам, при этом любой человек с юридическим образованием может быть представителем по гражданским делам, и даже представлять интересы потерпевшей стороны по уголовным и административным делам, не говоря уже о консультациях по юридическим вопросам. Таким образом, разница в соотношении количества жителей на одного адвоката, объясняется разными уровнями адвокатской монополии в той или иной стране, чем меньше объем адвокатской монополии, тем меньше количество адвокатов в той стране. ...
Применение миграционного законодательства в налоговых правоотношениях: судебная практика снятия с учёта по НДС и ликвидации юридических лиц
Аннотация. В статье проведен анализ судебной практики Республики Казахстан по применению миграционного и налогового законодательства в отношении иностранных учредителей и руководителей юридических лиц, включая вопросы снятия компаний с учёта по НДС и признания регистрации юридических лиц недействительной в связи с отсутствием визы категории С5 или разрешения на временное проживание (РВП) бизнес-иммигранта. Ключевые слова: миграционное законодательство; бизнес-иммигранты; виза С5; разрешение на временное проживание (РВП); НДС; налоговое администрирование; судебная практика. С 28 мая 2024 года вступили в силу изменения в миграционное законодательство Республики Казахстан (далее – РК), которые напрямую затронули порядок осуществления предпринимательской деятельности иностранными гражданами. Теперь даже граждане стран, с которыми у РК установлен безвизовый режим - в том числе государств ЕАЭС (Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь), а также Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана - обязаны получать разрешение на временное проживание (РВП) бизнес-иммигранта для ведения предпринимательской деятельности на территории Казахстана. Указанное разрешение по сути является аналогом визы категории C5, которая требуется для иностранных граждан из стран с визовым режимом. Однако на практике указанные изменения затронули не только новых инвесторов/предпринимателей, планирующих открытие бизнеса, но и действующие юридические лица, созданные задолго до вступления изменений в силу. Органы государственных доходов начали активно применять новые нормы, в том числе: снимая компании с учёта по НДС из-за отсутствия у учредителей или участников соответствующих миграционных документов; инициируя иски о признании регистрации юридических лиц недействительной. При этом не во всех случаях такие действия государственных органов были правомерными. В настоящей статье анализируется, почему существующая практика противоречит принципам права и основным положениям миграционного законодательства Республики Казахстан. 1. РВП бизнес-иммигранта и виза С-5: нормы и практика. ...
Регистрация филиалов и представительств иностранных компаний в Центральной Азии: юридические и налоговые аспекты
Жунубаева Мерует Управляющий партнёр юридической компании Astrea KZ Центральная Азия — это развивающийся и стратегически важный регион, привлекающий международный бизнес благодаря своему географическому положению, богатым природным ресурсам и растущему потребительскому рынку. Однако регистрация филиалов и представительств иностранных компаний в этом регионе связана с рядом юридических и налоговых особенностей, которые различаются в зависимости от страны. Филиал, Представительство и Постоянное Представительство (Permanent Establishment, PE) Перед началом регистрации важно понимать различия между этими формами присутствия: • Филиал — юридически зависимое, но операционно самостоятельное подразделение иностранной компании, имеющее право вести хозяйственную деятельность, заключать договоры, открывать банковские счета и уплачивать налоги в стране пребывания. • Представительство — структура, осуществляющая в основном вспомогательные функции (маркетинг, переговоры, продвижение бизнеса) и не имеющая права на коммерческую деятельность. • Постоянное представительство (PE) — налоговое понятие, применяемое, когда иностранная компания ведет деятельность в стране без официально зарегистрированного филиала. Например, длительное предоставление услуг на территории государства может повлечь налоговые обязательства по местным правилам о PE. Казахстан: благоприятные условия для филиалов и представительств Казахстан предлагает иностранным компаниям прозрачную и дружественную процедуру регистрации. ...
Регистрация бизнеса нерезидентами РК
Жунубаева Мерует Управляющий партнёр юридической компании Astrea KZ Я специализируюсь на сопровождении бизнеса в т.ч. при его создании нерезидентами в Казахстане. Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан растет непрерывно. В связи с этим необходимо раскрыть особенности и детали ведения бизнеса нерезидентами в Казахстане. В стране с романо-германским происхождением законов, понятных для постсоветского пространства, имплементирована англо-саксонская система, в виде МФЦА, понятная для англоязычного сообщества. Это уникальное сочетание двух различных подходов к праву предоставляет множество возможностей для ведения бизнеса. Для начала выделим ряд вопросов, ответы на которые будет полезно узнать нерезидентам, которые хотят вести бизнес в Казахстане. 1) Выбор организационно-правовой формы (либо В какой форме возможно открыть юридическое лицо в РК?) Самая распространенная форма юридического лица – это Товарищество с ограниченной ответственностью. Для более крупного бизнеса рекомендуется рассмотреть Акционерное общество. Если вы привыкли работать в английских юрисдикциях, то самая распространенная форма, которую вы можете создать – это частная компания в МФЦА. ...
Как иностранцу легально управлять бизнесом в Казахстане: миграционные нюансы для учредителей, директоров и сотрудников
Жунубаева Мерует Управляющий партнёр юридической компании Astrea KZ Открытие бизнеса в Казахстане становится всё более привлекательным для иностранных инвесторов: страна предлагает льготные налоговые режимы, доступ к рынкам ЕАЭС и Центральной Азии, а также либеральное корпоративное законодательство. Однако с момента регистрации ТОО встает вопрос: на каких условиях иностранцы могут находиться и работать в стране? Ответ зависит от их роли в бизнесе и гражданства. Учредитель — нерезидент: какой статус необходим? Учредителем компании в Казахстане может быть иностранное лицо, но до создания компании потребуется соблюдение миграционного режима: • Гражданам ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) необходимо получить разрешение на временное проживание (РВП) в статусе бизнес-иммигранта. Это даёт право легального нахождения и осуществления предпринимательской деятельности в РК. • Гражданам других стран потребуется виза категории С5, выдаваемая с целью открытия бизнеса. После этого возможно оформление РВП и, при необходимости, ВНЖ. Важно – визу или РВП необходимо получить до регистрации компании иначе регистрацию можно признать недействительной. Генеральный директор — иностранец Если директором ТОО является иностранный гражданин, необходимо учитывать: ...
Как оформить инвестиции в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане: правовые механизмы и защита активов
Жунубаева Мерует Управляющий партнёр юридической компании Astrea KZ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан – одни из наиболее привлекательных стран Центральной Азии для иностранных инвесторов. Эти государства активно развивают инвестиционную инфраструктуру, предоставляют налоговые льготы и правовые механизмы защиты активов. Однако, несмотря на улучшение инвестиционного климата, инвесторы должны учитывать особенности законодательства каждой страны. В данной статье рассмотрим ключевые правовые аспекты инвестирования в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. 1. Основные формы ведения бизнеса Инвесторы могут выбрать несколько правовых форм для ведения деятельности в этих странах: • Создание юридического лица (ТОО, ООО, АО) – наиболее распространенный вариант, обеспечивающий полный контроль над активами. • Совместное предприятие (СП) – партнёрство с местными компаниями, что может упростить доступ к рынку и снижает риски. • Представительство или филиал – удобная форма для тестирования рынка и заключения контрактов. • Инвестиционные соглашения и концессии – в отдельных случаях государственные программы предоставляют особые условия для иностранных инвесторов. 2. Регулирование иностранных инвестиций ...
Защита интеллектуальной собственности в Республике Казахстан
Жунубаева Мерует Управляющий партнёр юридической компании Astrea KZ Я специализируюсь на защите бизнеса, в том числе на защите объектов интеллектуальной собственности на территории Казахстана. Защита объектов интеллектуальной собственности в Казахстане регулируется внутренними нормативно-правовыми актами и международными договорами, в которых Казахстан участвует, что помогает защитить права казахстанских авторов в Казахстане, за пределами страны и признать иностранные права на территории Казахстана. Нарушения прав могут включать: • Незаконное использование товарных знаков. • Подделка запатентованных технологий или продуктов. • Пиратство и незаконное распространение контента. Важной частью правовой защиты является предотвращение нарушений на ранней стадии. Это включает в себя регистрацию товарных знаков, авторского права и патентов, контроль и управление своими правами и сотрудничество с юристами, специализирующимися на интеллектуальной собственности. Определим важные аспекты при регистрации объектов интеллектуальной собственности, как первый шаг для защиты в Казахстане. ...
Жунубаева Мерует
*** Управляющий партнёр юридической компании Astrea KZ Юрист с более чем 10-летним опытом в корпоративном праве, налоговом консультировании и судебной защите бизнеса. Под её руководством команда Astrea KZ реализует правовые стратегии, направленные на снижение рисков и достижение целей клиентов. Мерует обладает широкой экспертизой в международных и комплексных проектах, многие из которых получили признание в рейтингах Legal500, IFLR1000 и AsianLaw. Является участником профессиональных юридических сообществ и активно развивает консалтинговую практику. С 2019 по 2024 гг. — партнёр юридической фирмы из международного рейтинга LEGAL500 С 2024 года — член организационного комитета Eurasian Legal Professional Forum С 2025 года — управляющий партнёр группы консалтинговых компаний Astrea KZ Тюменский государственный университет - магистр права Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва - магистр права Специализация и интересы: ...
Письменная форма внешнеэкономической сделки: отдельные теоретические и практические аспекты
В настоящей статье рассматривается ряд теоретических и практических аспектов письменной формы внешнеэкономических сделок, включая ситуации, когда договорные отношения фактически сложились без письменного оформления единого договора. Исследуются вопросы действительности таких сделок, а также возможные способы защиты прав сторон в контексте казахстанского гражданского законодательства и судебной практики. В соответствии с положениями статей 152 и 153 и 1104 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК РК), внешнеэкономическая сделка подлежит заключению в письменной форме. Нередко на практике стороны, согласовав коммерческие условия сделки в переписке (например, направив согласованную скан-копию заказа на поставку), приступают к её исполнению без оформления единого письменного договора. В случае нарушения обязательств одной из сторон такая ситуация неизбежно порождает сложности для контрагента, чьи права были нарушены. Отсутствие формализованного договора затрудняет определение ключевых юридических вопросов уже на стадии подготовки иска. В частности, возникают вопросы: в суд какой страны следует обращаться; право какой страны подлежит применению; можно ли, опираясь на переписку и фактическое исполнение обязательств, доказать наличие сделки и обязанностей контрагента. Подобных затруднений можно было бы избежать при наличии надлежащим образом оформленного договора, в котором заранее предусмотрены подсудность споров по договору (суд или арбитраж), применимое право, регулирующее отношения сторон, а также иные существенные условия сделки. На практике целесообразно предусматривать арбитражную оговорку вместо указания на подсудность государственным судам. Это объясняется тем, что Республика Казахстан имеет соглашения о правовой помощи по гражданским делам далеко не со всеми зарубежными юрисдикциями, тогда как свыше 170 государств присоединились к Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Это дает возможность принудительного исполнения решений международного арбитража в большинстве зарубежных юрисдикций. Вернёмся к ситуации, когда между сторонами внешнеэкономической сделки отсутствует должным образом оформленный договор. В юридической практике нередко возникают споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по подобным внешнеэкономическим сделкам. Судебная практика по таким вопросам не совсем однородна, что, полагаю, обусловлено как спецификой фактических обстоятельств, так и некоторым различием подходов судов при оценке доказательств и применении норм законодательства. Если стороной, чьи права нарушены, является казахстанский участник сделки, защита его интересов зачастую возможна лишь в судах иностранного государства. Это объясняется ограниченной компетенцией казахстанских судов по делам с участием иностранных лиц ( ст. 466 ГПК РК). Так, согласно пункту 1 статьи 466 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК РК ): « Суды Республики Казахстан рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится или гражданин-ответчик имеет место жительства на территории Республики Казахстан ». В пункте 2 статьи 466 ГПК РК предусмотрены также случаи, когда казахстанские суды рассматривают дела с участием иностранных лиц. Некоторые из таких случаев могут быть связаны со сделками, такие как: орган управления, филиал или представительство иностранного лица находятся на территории Республики Казахстан; ответчик имеет имущество на территории Республики Казахстан; иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно иметь место или имело место на территории Республики Казахстан; иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Республики Казахстан. Суды Республики Казахстан могут рассматривать другие дела, если законом и (или) международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, они отнесены к их компетенции, как предусмотрено в пункте 3 статьи 466 ГПК РК. К примеру, Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года (Кишиневская конвенция), ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года, предусмотрены более широкие возможности обращения в суды договаривающихся стран конвенции, а также механизмы приведения в исполнение таких решений судов в договаривающихся странах. Вместе с тем, в ряде случаев из-за отсутствия договоров о правовой помощи со многими иностранными государствами исполнение решений казахстанских судов за рубежом зачастую оказывается затруднительным. В иных случаях казахстанской стороне приходится обращаться в иностранные суды, поскольку иностранный контрагент обычно находится за пределами Республики Казахстан и у него нет представительства или имущества на её территории. Обратная ситуация, когда стороной, чьи права нарушены, является иностранный контрагент, также имеет место быть. При этом мотивы другой стороны сделки могут быть различными — от расчёта на то, что иностранный контрагент не сможет эффективно защитить свои права в казахстанских судах при отсутствии должным образом оформленного договора, до недооценки юридического значения письменной формы сделки. Такой подход, конечно, противоречит принципам добросовестности, не допустимости извлечения преимущества из своего недобросовестного поведения, закреплённым в статье 8 ГК РК, а также основополагающим началам гражданского оборота. ...

 Выберите вид документа
Выберите вид документа
 Отметьте нужные условия из предложенных вариантов
Отметьте нужные условия из предложенных вариантов
 Получите юридически правильный документ
Получите юридически правильный документ
 Сохраните документ в системе или скачайте в формате Word
Сохраните документ в системе или скачайте в формате Word





 Давлетова Анель
Давлетова Анель
 Нурбаев Ринат Оразбекович
Нурбаев Ринат Оразбекович
 Ролан Изимов
Ролан Изимов
 Газиз Рустем Асылбекулы
Газиз Рустем Асылбекулы
 Чингиз Темиров
Чингиз Темиров
 Муслим Хасенов
Муслим Хасенов
 Елена Евгеньевна
Елена Евгеньевна
 Олжас Булатович
Олжас Булатович